Тимур Кожахметов: подлинная глубина казахской культуры отражена в танце «Камажай»
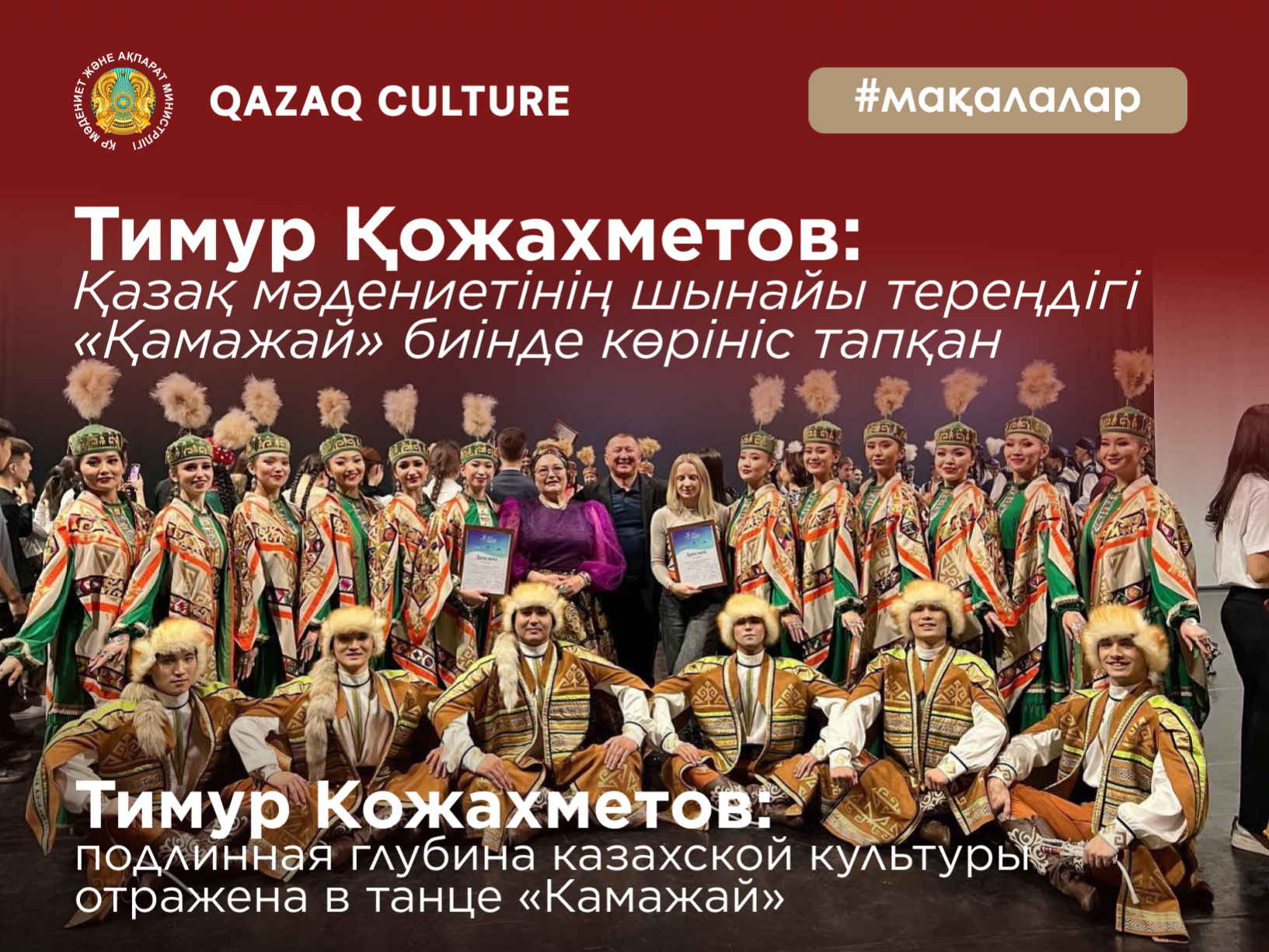
Мировая культура знает тысячи танцевальных форм, каждая из которых несёт в себе память о своём народе: от зажигательных бразильских самбо до величественных китайских придворных танцев.
Казахстан в этом ряду занимает особое место со своим богатым хореографическим наследием: народные движения, бытовые танцы, яркие сценические постановки отражают историю и характер степного народа.
Танцы в Казахстане издавна были не просто развлечением, а способом рассказать о прошлом, выразить внутренний мир и передать ритм кочевой жизни. Через движения передавались характер, настроение и даже философия казахов. Именно поэтому национальная хореография всегда была чем-то большим, чем сценическое искусство, — это форма самовыражения и культурная память.
Сегодня это наследие с особой силой продолжает звучать со сцены легендарного Государственного ансамбля танца «Салтанат», который в этом году отмечает своё 70-летие. За десятилетия коллектив стал визитной карточкой казахского искусства, демонстрируя миру не только красоту движений, но и глубину национальной души. Наряду с такими признанными коллективами, как «Салтанат», легендарный «Гүлдер», ансамбль песни и танца «Бірлік», на культурной карте страны появляются новые имена: к примеру, ансамбль в ВКО «Алтай», который на протяжении пяти лет продолжает линию культурного наследия, внося в свой репертуар современное звучание.
Мы решили побеседовать с художественным руководителем ансамбля Тимуром Кожахметовым о подлинной истории национальной хореографии. По его словам, настоящая миссия этноансамблей проста: через музыку и танец объединять культурное наследие разных народов, проживающих в Казахстане.
Можно говорить о более, чем 30–40 видах национальных казахских танцах, но, по мнению Кожахметова, глубина казахской культуры особенно ярко раскрывается в танце «Камажай», где каждый жест, каждый поворот головы хранит в себе вековые традиции.
Редакция Qazaq Culture поинтересовалась у эксперта также и о танце «Кара жорга», который стал предметом культурных споров и символических поисков. Действительно ли данный танец можно считать уникальным, и откуда он берет свои истинные корни. Об этом и многом другом читайте в интервью ниже.
Тимур, сегодня Казахстан переживает настоящий культурный подъем, вопрос о происхождении и сохранении национальных танцев выходит на республиканский уровень.
Ваш ансамбль «Алтай» относительно недавно стал частью культурной жизни Казахстана. Какую миссию Вы ставите перед собой как художественный руководитель? Какие сложности возникают сегодня?
- Да, верно, ансамблю «Алтай» всего пять лет — по меркам сцены, мы ещё молоды. Коллектив я собрал сам, и сегодня это единственный ансамбль в Восточном Казахстане, который выступает в жанре народного танца. В регионе, где преобладает многонациональная аудитория, для меня было особенно важно показать красоту и глубину казахской хореографии. С первых шагов мы заявили о себе: стали лауреатами конкурса имени Шары Жиенкуловой уже при первом участии, получили национальную премию «Умай». Но для меня награды — лишь подтверждение того, что мы движемся в верном направлении.
Моя главная миссия — сохранить культурное наследие и одновременно развивать направление казахского модерна. Я хочу, чтобы артисты ансамбля имели разное видение, чтобы они умели искать новое и не боялись экспериментировать. Я никогда не ориентируюсь на чужой репертуар — каждый номер придумываю сам и именно в этом вижу источник нашей самобытности.
Мы понимаем, что национальная хореография – это часть большой культурной стратегии государства, направленной на сохранение наследия и продвижение казахстанской идентичности. Сложно ли сохранить традиции и развивать этнокультуру в современных реалиях, как обстоят дела в регионе?
- Я уверен, что всё зависит от руководителя: именно он определяет, как артист почувствует материал и как зритель воспримет его. Зритель для нас — это своего рода клиент, и обмануть его невозможно. Если постановка действительно сильная, она сразу находит отклик. Работая над танцем, я всегда изучаю исторический контекст и стараюсь донести его до артистов. К примеру, в казахской культуре девушка традиционно считалась скромной и застенчивой — и эту черту важно отразить в движениях, в пластике, в образе. Моя задача — помочь танцору вжиться в роль так, чтобы сцена стала не просто танцем, а маленькой историей, рассказанной через движение. Конечно, те, кто интересуются народными танцами, понимают, что благодаря развитию этнокультуры, сохраняется культурный код нации.
И все же, наверное, сложно руководить ансамблем, который только начал заявлять о себе. К примеру, если взять ансамбль песни и танца «Бірлік» - менее, чем за два года они представили впечатляющий репертуар, включающий казахские, русские, узбекские, татарские, киргизские и таджикские танцы, а также неоказахскую хореографию. А с какими главными трудностями Вы столкнулись при создании этноансамбля?
- Самое сложное для меня — это работа с новыми артистами. Каждый раз это напоминает труд гончара: начинаешь «лепить» из человека произведение искусства, формировать его как личность на сцене. Конечно, не всегда хватает костюмов, да и финансовые трудности случаются — это нормальная часть нашей реальности. Но обучение и воспитание артистов — моя прямая обязанность. Важно, чтобы он не просто вышел на сцену, а стал частью коллектива, почувствовал команду и жил её дыханием.
Через такие совместные усилия артисты начинают понимать, что танец — это не просто набор движений, а живая история народа. В каждом номере мы стараемся передать не только эстетику, но и характер, настроение, традицию. И здесь невозможно не вспомнить о «Кара жорга» — танце, вокруг которого до сих пор не утихают споры и который стал символом казахской идентичности.
Да, расскажите, в чем же все-таки уникальность этого танца?
- Это, конечно, моё личное мнение, но я не могу считать «Кара жорга» полноценным танцем в том виде, в каком его сегодня чаще всего показывают. Там много условностей: поют про «чёрную лошадь», девичьи плечики, которые подрагивают под ритм, одни и те же повторяющиеся движения. Для меня это ближе к уличному формату, чем к сценическому искусству. Однако, уникальность казахской хореографии не ограничивается «Кара жорга». Есть постановки, которые действительно отражают глубину нашей культуры. Например, «Камажай» — вот это, на мой взгляд, настоящая визитная карточка казахского народа, в которой и характер, и нежность, и история соединяются в единый художественный образ. Повторюсь, это сугубо мое личное мнение.
То есть корни данного танца идут не из Казахстана?
- Я могу ошибаться — всё-таки я не историк, — но, насколько знаю, «Кара жорга» пришёл к нам из Китая. Его пластика и лексика очень напоминают китайские народные танцы: там нет выворотности, нет самой хореографической основы, движения сводятся, в основном, к покачиванию плечами и повторяющемуся набору элементов. С профессиональной точки зрения, это нельзя назвать полноценным танцем в академическом понимании.
Старшее поколение ещё может воспринимать «Кара жорга» как символ, но для молодёжи он зачастую не так близок. Ведь новое поколение ищет больше глубины, разнообразия, ассоциаций с традициями. И в этом смысле постановки вроде «Камажай» гораздо выразительнее: в них есть пластика, отражающая национальный характер — заплетание косы, взгляд в зеркало, женственность и сдержанная красота. Эти детали несут в себе культурный код, тогда как «Кара жорга», на мой взгляд, не вполне соответствует образу «танца великой степи». С точки зрения профессиональной хореографии я бы уделял больше внимания именно таким постановкам.
Мы видим сейчас новый рассвет творческого коллектива «Гүлдер». Новое поколение артистов, под руководством опытных хореографов и дирижеров, восстановило «золотой фонд» ансамбля, сохранив такие знаковые постановки, как «Бипыл» и «Асатаяқ». Молодые солисты уже завоевывают международные награды в Германии, Латвии и США, демонстрируя, что казахстанская школа танца конкурентоспособна на мировом уровне. Какие новые идеи и элементы Вы стремитесь привносить в свои постановки сегодня?
- Для меня фундаментом всегда остаётся казахская аутентичность. В репертуаре есть постановки вроде «Киізбасу» или «Буын би» — это подлинные шедевры национальной культуры. В то же время мы стараемся быть актуальными: скоро ансамбль едет в Китай на фестиваль, и там мы будем одним из номеров показывать «Кара жорга». Но даже в этом танце я внес некоторые изменения — сделал образ девушки более скромным, ближе к нашим традиционным представлениям. Мне важно сохранять изюминку казахского народа и одновременно использовать современные хореографические методики, чтобы танец звучал живо и близко зрителю сегодня.
Учитывая, что Вы часто бываете в разъездах и представляете нашу страну за рубежом, скажите, как воспринимает зарубежная публика наши танцы? Что чаще всего отмечают?
- Если показать действительно шедевр, он всегда будет воспринят на «ура». Иностранцам очень нравится наш фольклор, потому что казахская танцевальная лексика ни с чем не сравнима. У других народов культура может быть более локальной, ограниченной, а у нас она богата, многослойна и развита в разных направлениях. Именно поэтому наши танцы для зарубежной публики выглядят ярко и насыщенно, они чувствуют в них глубину.
Выступая на престижных фестивалях от Турции и Германии до Японии и Франции, казахстанские артисты подтверждают, что национальный танец способен конкурировать на мировом уровне, оставаясь при этом хранителем культурной памяти. Какие перспективы, на Ваш взгляд, у национальной хореографии в контексте глобальной культурной интеграции?
- У казахского танца есть все перспективы для роста и выхода на мировую сцену. Но для этого важно не замыкаться в себе, а постоянно ездить за границу, показывать своё искусство и учиться новому. Артисты не могут засиживаться на одном месте — только через обмен опытом и выступления за пределами страны развивается воображение, обогащается репертуар и появляется новое видение. Конечно, здесь нужна и поддержка государства: без системной помощи ансамблям и проектам популяризировать национальную хореографию будет гораздо сложнее. Было бы замечательно, если бы ежегодно проводился республиканский конкурс среди всех ансамблей страны на лучшую постановку национального танца, а Министерство культуры и информации курировало этот процесс и открывало новые таланты.
Казалось, благодаря Вашему опыту и особому видению на сцене, Вы исполнили все творческие задумки. Или все же остались номера и постановки, которые Вы бы хотели воплотить, но еще не смогли?
- Конечно, у нас есть большие планы и множество идей. Всё это обязательно будет реализовано, как только появится достаточное финансирование. Для меня важно, чтобы каждый проект был продуман и доведён до совершенства, поэтому творческие замыслы ждут своей очереди и ресурсов, чтобы воплотиться в жизнь.
В заключение, хочу добавить, что национальный танец в Казахстане сегодня уже не ограничивается рамками сцены — он становится частью большой культурной стратегии, в которой искусство соединяет поколения, укрепляет идентичность и выстраивает мосты с миром.